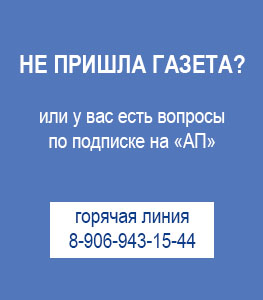ТОПОЛЬ РАССКАЖЕТ
НАЙДЕННЫЙ ФРОНТОВОЙ ТРЕУГОЛЬНИК НАПОМНИЛ О РОДОСЛОВНОЙ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ
00:00, 28 мая 2010г, Общество 2634
Перед Днем Победы, разбирая домашний архив старшей сестры Дарьи, ушедшей из жизни год назад, барнаулец Иван Бояринов обнаружил пожелтевший фронтовой треугольник. Брат – Гаврил Гаврилович Бояринов отправил его своей семье в начале января 1945 года, когда находился на лечении в госпитале города Спасcк Рязанской области. Он сообщил, что был тяжело ранен под Варшавой, осколки мины попали в голову, бедро и раздробили стопу. Ногу и глаз врачам удалось спасти, но раны заживали долго, и все это время фронтовику приходилось передвигаться с помощью костылей.
Из рода Бояриновых
Об этом брат писал вскользь, не хотел расстраивать родителей. Его письмо пронизано хорошим настроением. Только что в госпитале все дружно встретили новый, 1945 год, и уже верилось, что он станет победным. Гаврил Бояринов передавал приветы всей своей многочисленной родне и благодарил за присланные фотографии, на которых он впервые увидел зятя Леонида Сажина, мужа Дарьи.
«Я вам тоже послал свое фото с хорошим товарищем, который поехал домой через Барнаул. А еще одно, правда, маленькое и темноватое, кладу в это письмо», – сообщал брат. По штемпелю на конверте оно пришло в Барнаул 20 января 1945 года. Адрес указан Дарьи: кожзавод N 2, поселок Ильича. К тому времени она жила в городе, а вся семья Бояриновых оставалась дома, в селе Фунтики Топчихинского района.
– Я этого письма не помню, поскольку во время войны был еще мал, – рассказывает Иван Гаврилович. – О его существовании узнал только сейчас, через 65 лет. Вместе с сыном Дарьи Сергеем перечитали его несколько раз. Несмотря на то, что брат вернулся с фронта живым, сестра бережно хранила этот треугольник до конца своей жизни. В праздничные дни мы познакомили с ним всю родню, долго вспоминали, как жили с родителями во время войны и как встретили День Победы. Мать и отец были неграмотные, все письма с фронта им читали младшие дочери, которые учились в школе.
Эта находка заставила Ивана вспомнить не только брата и других родственников-фронтовиков, но и вернуться к истокам семьи Бояриновых, своей родословной. Глава фамилии – дедушка Алексей Степанович Бояринов родился в 1870 году в Тамбовской губернии. Он служил церковным старостой и занимался портняжным делом. Семья была большая, всех сам обшивал, а потом стал принимать заказы со стороны. Во время столыпинской реформы, в 1905 году, Бояриновы отправились на новые земли в Сибирь и осели на Алтае в селе Фунтики. Построили себе просторный дом. Швейная машинка «Зингер» заняла в нем почетное место. Алексей Степанович шил на ней костюмы, шубы, шапки, меховые рукавицы. Заказы поступали не только от односельчан, к нему приезжали из соседних городов Сибири. И в восемьдесят лет он без очков вдевал нитку в иголку.
В доме всегда были иконы и лампады, семья слыла верующей. Тем не менее один его сын, Михаил, работал председателем рай-исполкома, другой – Сергей, получил педагогическое образование и вернулся в родное село, стал директором школы, в которой училось все юное поколение Бояриновых. Сестра Ивана Анна вспоминает, как однажды, уже после вой-ны, в их пятом классе стали раздавать учебники географии, которых всем не хватило: «Я подошла к нему и говорю: «Дядя Сергей, дайте и мне учебник». А он строго посмотрел: «Дядя тебе я дома, а в школе называй меня Сергеем Алексеевичем». Именно Сергей вскоре привез в дом родителей первый в селе патефон и пластинки с ариями популярного тогда певца Сергея Лемешева, песней «Хороши весной в саду цветочки» и другими. Единственная дочь Алексея Степановича Агафья вышла замуж и уехала в Волчихинский район.
Когда трое старших детей выросли и покинули отчий дом, дед и бабушка Евдокия Яковлевна остались жить с младшим сыном Гаврилом и его женой Натальей. А у тех родилось девять детей: Анастасия, Мария, Дарья… В 1926 году дождались первого сына, которого назвали в честь отца Гаврилом. После него были Александра, Екатерина, Вера, Анна и последыш Иван. Он появился на свет в 1939 году, почти одновременно с первыми двумя внучками своих родителей, которых им подарили старшие дочери.
Тут уместно вспомнить, как отец Ивана познакомился с его матерью. Наталья Емельяновна, в девичестве Лысенко, в 1917 году молоденькой девушкой приехала на Алтай из-под Брянска к своей такой же молодой тете. Привезла той из дома приданое на свадьбу: рушники, скатерти, расшитые кофты, самотканое полотно. Хотела только погостить и вернуться домой, но началась революция, и выбраться из Сибири Наталье не удалось. Осталась жить у тетки.
Вскоре обратила внимание на очень красивого парня – Гаврилу Бояринова. Только он плохо слышал и говорил. Родился нормальным ребенком, но в младенчестве, видимо, перенес какое-то инфекционное заболевание, хотя бабушка говорила, что слух у него сел от испуга. Когда Гаврил предложил Наталье выйти за него замуж, она сразу согласилась. Через год у них родилась первая дочка. Оба работали в колхозе, он – конюхом, она – в поле или на ферме. Наталья научила мужа сносно разговаривать. Она была рукодельницей: ткала половики, полотно, из которого шила детям одежду, вышивала крестиком рушники.
За себя оставил… дерево
Сегодня Иван с сестрой Анной остались вдвоем, живут со своими семьями в Барнауле. Оба получили высшее экономическое образование, он работал главным бухгалтером «Стройгаза», она – директором магазина. Анна Гавриловна рассказывает:
– В эти майские дни мы часто вспоминаем своего брата-фронтовика. Я хорошо помню, как он уходил в армию. К лету 1941 года трое сестер уже работали в колхозе. Дарья сразу пошла учиться на тракториста и всю войну пахала и убирала поля на колесном «ЧТЗ». Мария на лошадях возила зерно из Топчихи в Барнаул, на элеватор, а в дороге случалось всякое. Мы, младшие школьники, тоже помогали хозяйству, как могли: на сенокосе, уборке урожая, пололи свеклу, пшеницу, выдергивали высокие стебли полыни. Гаврил работал на сенокосе, пахал на быках, возил на них зерно. Он закончил семь классов.
В 1943 году ему исполнилось 17 лет. И тут пришла похоронка на мужа Марии – Трофима Булатова, который погиб под Сталинградом. (У него осталась дочь Валентина, которая сейчас живет в Краснодарском крае. Недавно она отыскала могилу отца). Гаврил сразу пошел в военкомат и попросился на фронт добровольцем. Мама плакала весь день. Брат успокаивал ее, как мог.
Пошли они в огород что-то садить. Гаврил посмотрел на маму: «Не плачь, я сейчас в этом углу посажу молодой тополь. Захочешь узнать, как у меня дела, посмотришь на него. Если дерево растет, развивается, значит, и у меня все в порядке, служба идет нормально». Утром пришла подвода, и нескольких парней из нашего села повезли на станцию. До нее было километров десять. Там Гаврилу и его друга Ивана Мордасова отобрали для учебы в школу младших командиров и отправили поездом в Красноярск. Об этом мы узнали, когда получили первое письмо от брата.
С тех пор мама каждый день проверяла тополь. Он рос, поднимался, она оставалась спокойной. Один раз, возвращаясь с работы, заметила, что деревце поникло, листья вялые. Мама заголосила на всю округу с причитаниями. Мы все выскочили, сгрудились вокруг как цыплята: «Мама, что случилось?» Она на тополь показала: «С Гаврюшкой плохо, убили или ранили!» Как ни успокаивали ее набежавшие соседи, мама твердила, что ее сердце чувствует беду. Стала каждый день к тополю ходить, выхаживать его – с утра печку затопит и в угол огорода. Через некоторое время деревце отошло, «повеселело». А тут и письмо пришло от брата: «Мама, я лежу в госпитале». Потом до конца жизни (мамы не стало в 1970 году) она никому не позволяла отломить от тополя даже маленькую веточку. Недавно мы побывали в бывшей родительской усадьбе. Там теперь живут другие люди, но могучий тополь брата продолжает расти.
Иван Тихонович Мордасов, с которым Гаврил Бояринов вместе уходил на фронт, и сегодня живет в селе Фунтики. Когда ему позвонили, он сказал: «Гаврил был хорошим парнем, все схватывал на лету. Военную науку постигал быстро и на отлично. В Красноярске, в казарме учебной части мест не хватало, так мы с ним спали на одной кровати и под одним одеялом. Стали еще крепче дружить. А вот на передовой нас разделили».
Войну вспоминать не хотел
Гаврил Гаврилович воевал рядовым пехотинцем на Прибалтийском фронте, освобождал Эстонию, Польшу. Когда при штурме Варшавы его сильно ранило, он написал домой, что его спасли два хирурга – русский и поляк. В условиях полевого госпиталя они сделали сложнейшую операцию, вынули над бровью и из глаза 12 мелких металлических осколков и сохранили ему глаз, хоть и хуже стал им видеть. После этого отправили в госпиталь под Рязанью, долечивать раздробленную ногу. Гаврил часто вспоминал золотые руки полевых хирургов и рассказывал о них родным.
После войны он остался на сверхсрочную службу в Москве. Вскоре его направили в Таллин, в школу милиции, где он проучился четыре года. Анна Гавриловна рассказывает:
– Брат всегда был скромным и немногословным, о себе говорил мало, никогда не хвалился. Мы знаем лишь, что сначала работал в УВД Москвы, потом окончил юридический факультет МГУ. Только один раз в разговоре вскользь заметил, что учился на одном курсе с дочерью Никиты Хрущева. Перешел в Министерство юстиции, дослужился до полковника. В отпуск приезжал на Алтай, но всегда в гражданской одежде и даже фотографий в погонах не присылал. Появлялся на пороге со словами: «А вот и я!» Войну вспоминать не хотел, как не говорили о ней и другие фронтовики из нашей семьи: муж сестры Анастасии Демьян Гришин, дошедший до Берлина, братья отца Сергей и Михаил, вернувшиеся домой сильно израненными, из-за чего Михаил недолго прожил после победы, мужья моих сестер Шуры и Кати, за которых они вышли замуж уже после 1945 года (у каждого несколько ранений), сын Агафьи, военный летчик Василий Афанасьев.
Бывая у родителей, брат всегда навещал свой тополь, погладит его, похлопает по стволу и заулыбается. Помогал старикам по хозяйству, заготавливал сено, в юности учил меня ездить сначала на велосипеде, а потом на «Победе». Любил посидеть с удочкой на излучине деревенских речек Малая Калманка и Савиха, а иногда ему удавалось поохотиться. Когда кто-то из нас бывал в Москве, все останавливались у Гаврилы (он жил в районе метро «Варшавская»). Первого сына брат назвал в честь дедушки – Алешей, второго – Сергеем. Они получили образование, один пошел по его стопам.
Но судьба отмерила Гаврилу Бояринову недолгий срок. В свои 63 года он выглядел моложавым и крепким мужчиной. Иван позвонил ему и сказал, что собирается в Москву. И вдруг тот ответил: «Можешь не успеть, раны дают о себе знать, да и сердце пошаливает».
Утром 11 февраля 1990 года Гаврил Гаврилович чувствовал себя легко и хорошо. Сходил в Сбербанк, заплатил за квартиру, домой бежал, перешагивая на лестнице через ступеньку. Пообедал, лег с газетой на диван. Когда жена хватилась, он уже умер. Оказалось, оторвался тромб на ноге, там, где была рана. Война его все-таки достала. Сегодня у него растут три внука, но дед видел только одного.
* * *
В День Победы, собравшись за праздничным столом со своими семьями, Иван с Анной долго считали, сколько же сегодня на свете Бояриновых, потомков Алексея Степановича? Перебирали его внуков, правнуков, праправнуков, но так и не смогли назвать точную цифру. Разлетелись они по стране: живут не только на Алтае, но и в Кемеровской области, Краснодарском крае, Москве, в Крыму, куда сестру Александру сразу после войны направили восстанавливать разрушенные города. Сошлись в одном: все Бояриновы – люди достойные. Сын Агафьи, например, работал прокурором в Кемерове, внук Дарьи – военным прокурором в Москве, несколько человек служат в милиции. Среди представителей фамилии есть работники сельского хозяйства, торговли, строители, связисты, педагоги, врачи, летчики, военнослужащие – сын Анны полковник. Кстати, многие Бояриновы – постоянные подписчики «Алтайской правды».